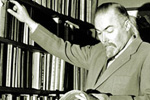Для того, чтобы почувствовать своеобразие разработки Пушкиным издревле известной темы, важно обратиться к поэтике заглавия произведения. В нем поэтически сопряжено несоединимое. Для того, чтобы почувствовать несопрягаемость вынесенных в заглавие слов, необходимо вспомнить, что рыцарство — дворянство Западной и Центральной Европы — долгом своим считало исполнение воинской обязанности при дворе старшего феодала. Рыцарская доблесть заключалась в добровольном решении поставить свое богатство, отвагу и преданность на службу сюзерену, явившись к его двору в прекрасной амуниции на боевом коне. Представления Пушкина о рыцарстве запечатлены, как в его известном рисунке рыцаря в доспехах и рыцарского вооружения на титульном листе рукописи «Драматических сцен», открывающейся «Скупым рыцарем», так и в его стихотворении лицейского периода «Сраженный рыцарь» (1815), в котором тема рыцарской песни введена в традиционную поэтику элегии, и в высказываниях о духе рыцарства, важном для развития художественного слова.
С одной стороны, Пушкин считал дух рыцарства необходимым для развития европейской поэзии: «Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы (...) рыцари сообщили ей свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Готфреда и Ричарда».[17]
Чуждость России Европе и отставание русской литературы от европейской он сопрягал с тем, что «рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера».[18] Пушкин сознавал, что опоэтизированный взгляд на рыцарей не имеет ничего общего с действительностью. То, как разбиваются романтические грезы юноши, считающего рыцарей воплощением идеала, Пушкин запечатлевает в незаконченном драматическом эпизоде, названном издателями «Сценами из рыцарских времен». Один из персонажей «Сцен», Франц, заворожен рыцарским принципом «честь дороже денег», но его иллюзии разрушаются при столкновении с реалиями рыцарской жизни.
Центральный конфликт «Скупого рыцаря» строится на невозможности молодого рыцаря выполнить свои обязанности перед сюзереном из-за скупости отца, что наносит урон его сословной чести. Бедность, делающая невозможным осуществление жизненного предназначения, — мотив, пережитый Пушкиным в жизни.
При столкновении с вопросами рыцарской этики, пушкинскому персонажу ничего не осталось, как стать философом и обосновать свою страсть как высокую, не унижающую рыцарского достоинства, дающую мощь своей выстраданностью. Для него собирание богатства — это каждодневная битва, в которой он и погибает. О нерыцарственном поведении рыцарей в прозе писал в те же годы В.Скотт, создавая особый тип романа, дающего почувствовать прикосновение истории, пережить ее как личное. Нерыцарственные рыцари В. Скотта становились непримиримыми противниками достойных героев. В драматических сценах в стихах, созданных Пушкиным, помимо внешнего драматического конфликта — Барон — Альбер — существует и не менее существенный — внутренний: накопительство и достоинство, — изменяющий человеческое существо Барона, приводящий его к состоянию рыцарственного служения драгоценному металлу, что обрекает на гибель высоту человеческого духа в человеке.
Создав русский вариант разработки образа, Пушкин угадал его дальнейшее развитие, которое пошло по пути углубления философичности и решения вопросов внутренней этики. К разработке образа в XIX веке вновь после Шекспира вернулись англичане и французы после Мольера. Бальзак, увлеченный вопросами взаимодействия человека и денег, создал Гобсека, еще более философичного и склонного к власти над людьми. Диккенс — единственный из всех — задается вопросом о том, как человек может выйти из-под власти денег, духовно возродиться, и создает для этого уникальный жанр рождественской повести («Рождественская песнь в прозе»).
Пушкин дал своему произведению подзаголовок :«Скупой рыцарь. Сцены из Ченстоновой трагикомедии: The Covetous Knight». Поиски оригинала в английской литературе и автора, указанного Пушкиным, не привели к успеху. Считается, что Пушкин написал оригинальное произведение, сопроводив его затемненной ссылкой на несуществующего автора из-за нежелания вызвать суждения о том, что в произведении запечатлены его семейные обстоятельства и взаимоотношения с отцом: «Причину, понудившую Пушкина отстранить от себя честь первой идеи, должно искать, как мы слышали, в боязни применений и неосновательных толков».[19]
В истории английской литературы был поэт и эссеист Уильям Шенстон (Shenstone, William, 1714-1763), писавший элегии, оды, песни, баллады. Славу ему принесли «Суд Геркулеса» (1741) и «Учительница» (1742), «Пасторальная баллада», «Строки, написанные в гостинице». Считается, что Пушкин мог иметь ввиду некоторые строки поэмы Шенстона «Бережливость». Какие строки, как и почему подтолкнули А.С.Пушкина к созданию «Скупого рыцаря»? Этот вопрос ждет своего исследователя.
Таким образом, Пушкин, вбирая многовековой опыт словесного творчества, давал новую жизнь и трактовку уже отстоявшимся образам и угадывал пути их развития литературой последующих эпох.
В истории бытования Слова выделяют два основных периода: с IV века до н. э. до середины XIX века — т.н. риторическое, «готовое слово», (А.Н.Веселовский), с середины XIX века в права вступает свободное слово, принадлежащее бесконечно глубокой, неисчерпаемой, психологически понятой личности. Слово становится моментом личности, принадлежностью внутреннего мира, имеющего общую сторону со всеми, говорящими на том же языке. Роль Пушкина для русской словесности заключается в выработке языка, готового к появлению свободного слова.