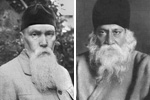Еще раз, в этой связи, стоит обратиться к великолепному знатоку иконописного искусства и философу П.А.Флоренскому. Он пишет об одной очень интересной традиции, существовавшей в духовной живописи. «Икона, как закрепление и обновление, возвещение красками духовного мира, по самому существу своему, есть, конечно, дело того, кто видит этот мир, – святого, и потому, понятно, иконное художество, в соответствии с тем, что на светском языке называется художество, принадлежит не иначе, как святым отцам».[24]
Меньше всего приходится думать, что именно эти святые отцы, или свидетели, как называет их Флоренский, занимались сами этим художеством. Правда, сочетание в одном лице святого и художника также имело место в церковном искусстве. В этом случае сам свидетель, или тот, кто видит мир иной, мог запечатлеть образы, ему представшие. Однако в большинстве случаев святые отцы направляли руку художника, озаряя его искусство своими видениями и снами. От духовного развития самого иконописца, от его способности осязать невидимое и понимать его зависело качество и энергетика картины или иконы, выполненной под влиянием этого свидетеля. Если энергетика свидетеля и «свидетеля свидетеля» находилась в гармонии и соответствии, то результат оказывался очень высоким.
«В собственном и точном смысле слова иконными художниками могут быть только святые, и может быть большая часть святых художествовала в этом смысле, направляя своим духовным опытом руки иконописцев, достаточно опытных технически, чтобы воплотить небесные видения, и достаточно воспитанных, чтобы быть чуткими к внушениям благодатного наставника».[25]
Николай Константинович Рерих, будучи сам Высокой сущностью, был не только чуток к «внушениям благодатного наставника», роль которого играла Елена Ивановна, но и был как бы ее сотворцом в путешествии к нездешним мирам. Поэтому он не только точно переносил на полотно увиденное его женой, но и передавал тот дух, запечатлевал ту тонкую энергетику, с которыми взаимодействовал и сам. В силу своей интуиции и особенностей внутренней структуры, свидетель свидетеля глубоко и точно представлял себе то пространство, в которое вели его предутренние сны и собственные видения. Оставляя справедливо за Еленой Ивановной роль ведущей, он всегда отмечал, что каждая его картина, каждое его полотно должно нести два имени: одно мужское, одно женское.
Сама же Елена Ивановна, как никто другой, умела проникать в суть искусства и точно оценивать его и с точки зрения художественной, и с точки зрения философской.
«... Каждое произведение Н.К. (Николая Константиновича – Л.Ш.) – писала она в одном из своих писем, – поражает гармоничностью в сочетании всех своих частей, и эта гармоничность и дает основу убедительности. Ничего нельзя отнять или добавить к ним, все так, как нужно. Эта гармония формы, красок и мастерства выполнения и есть дар, присущий великому творцу. Произведения Н.K. дороги мне и красотою мысли, выраженной им в таких величественных, но простых и порой глубоко трогательных образах. Для меня, постоянной свидетельницы его творчества, источником непрестанного изумления остается именно неисчерпаемость его мысли в соединении со смелостью неожиданных красочных комбинаций. Не менее замечательной является и та легкость и уверенность, с которой он вызывает образы на холсте. Они точно бы живут в нем, и редко, когда ему приходится нечто изменять или отходить от первого начертания.
Истинно, наблюдая за процессом этого творчества, не знаешь, чему больше удивляться – красоте ли произведения или же виртуозности выполнения его».[26]
В этом письме Елена Ивановна скромно называет себя свидетелем творчества Николая Константиновича. В этом есть и какая-то доля правды. Ибо каждый из них был свидетелем другого. Поэтому их совместное творчество и оказалось высочайшим образцом духовного и образного проникновения в глубины энергетических процессов космической эволюции человека. Это поставило Рериха в ряды великих и уникальнейших художников нашей планеты.
IV. Сокровища Духа
«Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий,- писал Николай Константинович, – когда он, преодолевая все трудности, восходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, делаются только преодолениями земных условностей».[27]
Эти слова Рериха относятся к высочайшим горам нашей Планеты – Гималаям, Он их называл еще Сокровищницей Духа, и был в этом определении ближе к Истине, чем все те, кто соприкасался с этими горами и писал о них. Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи прожили значительную часть своей жизни в Гималаях, в одной из чудеснейшие долин – Кулу. Старинный дом их виллы стоял на горном склоне, откуда открывался вид на снежные вершины, скалистые обрывы и хвойные леса гималайского пространства. Над долиной изо дня в день бушевала феерия горных рассветов и закатов, прозрачно-звездных ночей и фантастической солнечной игры света и теней. Художник писал эти горы и ощущал более, чем где-либо то «таинственное касание надземного»[28], которое ложилось на его полотна отблесками нездешних миров, делавшими сами горы легкими, невесомыми, порой почти призрачными. Иногда он использовал те зарисовки, которые сделал на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, прошедшей через Индию, Китай, Сибирь и Алтай, Монголию и Сикким. Магнетическая красота тех мест, людей и их творений ложилась на полотно точными и яркими мазками темперы. На темперу он перешел, когда покинул Россию, и оставался верен этому материалу до конца своих дней. Там же, в Гималаях, он в 1947 году закончил свой жизненный путь и завершил художественный труд, который был сужден ему на этом пути. Последняя его картина называлась «Приказ Учителя». На ней он изобразил любимые им Гималаи, снежные вершины и ущелье, наполненное синим светом. Над ущельем и текущей в низу рекой парил Белый Орел. Человек, сидящий на склоне, наблюдал трепетно и пристально за его полетом. Картина так и осталась на мольберте. Тысячи прекрасных полотен, сохранившихся после Николая Константиновича оказались разбросаны по многим странам мира – Россия и Америка, Индия и Монголия, самые неожиданные города Европы.