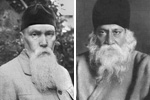Понимание культурно-энергетических процессов формирования нового пространства дополняется вертикалью исторических путей, пролегающих по системе рек западнее Дона и соединяющих вдоль лесной местности территории поздней Европы с Европой первоначальной. По этой вертикальной границе "двух полушарий" Евразии, связанной с торговыми путями, создавалось новое качество славянско-скифской психологии русского этноса, насыщенное токами, возникшими между эллинско-скандинавскими культурными полюсами, усиленными впоследствии христианским влиянием. Пролегала эта граница по пути из Варяг в Греки — "становому хребту" исторического пространства русской государственности[2].
Этапы освоения Востока и Запада, Севера и Юга проходили через периоды распада и синтеза возникающей общности, отмеченные на разных уровнях формирования "всечеловеческой" природы русского суперэтноса.
Синтез созревал в отдельных центрах пространства и периодически имел локальные манифестации. Из подобных энергетических центров развертки новой самосознающей наднациональной общности нужно отметить Алтай. Свидетельством этого является то, что скифское искусство и, в особенности, звериный стиль, наиболее вероятно, имели свои истоки на Алтае и в Туркестане (с возможной иранской основой). Вехи продвижения скифского звериного стиля свидетельствуют об алтайском эпицентре, определявшем направления распространения силовых линий живой культуры (Юг будущей России 7-6 вв. до н.э.; Сибирь района Минусинска 6-5 вв. до н.э.). Взаимосвязи и сочетания разновидностей звериного стиля удивительно многообразны и раскрывают новое космическое измерение взаимодействия пространства, человека и истории. В этом искусстве сходятся пути из Тибета, Монголии, Ирана, Сибири, Греческой архаики (в особенности ионийской), Месопотамии, Ассирии и др.[3]
3. Интересно отметить, что Иван Васильевич Вернадский — отец создателя учения о Биосфере и Ноосфере, высказывал в своих работах похожие мысли, которые, наверное, повлияли на формирование научно-философского склада ума сына. "...Полярность есть общий закон в природе, она должна быть и в истории. Если полюсы находят во всех отдельных телах, и если мы принимаем народ за отдельный организм, а государство за тело, то полярность должна существовать и в них. Всякое действие, как и всякое движение, встречает противодействие, сопротивление. Не видим ли мы того же в жизни и стремлениях народов? История показывает нам, что Запад и Восток — два полюса исторического мира" — писал И.В.Вернадский[4]. Петербургский исследователь творчества В.И.Вернадского В.А.Росов дает дополнительные сведения о взглядах И.В.Вернадского: "...затем <И.В.> говорит о появлении нового элемента общности людей, явившегося на Руси с Варягами, как о положительном полюсе. Походы на Византию сделали варяжский элемент отрицательным, однополярным с Византией, были усвоены ее формы (принятие христианства и освоение византийской культуры) и столкновения между этими "политическими телами" прекратились. Позже на Руси происходит расслоение на демократический, вечевой полюс (отрицательный), выраженный более на севере, и аристократический, княжеский полюс (положительный) — на юге. Именно по этой причине происходит борьба княжеств, юга с севером и, при завоевании Руси монголами, — разгром ими юга и пощада севера. И.В.Вернадский разбирает всю историю России как столкновение полюсов. "Полюсной" точкой зрения объясняется и уникальное положение России, совмещающей в себе как бы два полюса, два начала — Запад и Восток. Примечательно, что первоначальный вариант статьи имел название "Старина и дыхание Востока", и более поздний — "Запад и Восток"[5].
Представленные подходы имеют так же определенную аналогию со взглядами Владимира Соловьева, который выделял три силы, управляющие человеческим сообществом:
1. Интегрирующую со строгим приматом единой организующей воли, доходящей, например, на мусульманском Востоке до тирании;
2. Деструктивную, дискретную, направленную на выявление максимальной обособленности, примером ее выражения у Соловьева служит западный протестантизм;
3. Синтезирующую, поддерживающую целостность единства в многообразии.
4. Если перевести проявления этих сил в плоскость взаимоотношений духа и материи, то можно отчетливо увидеть, что рассмотрение и объяснение этого вопроса явилось краеугольным камнем и для Евразийцев, и для мыслителей-космистов, и для философов, старавшихся обобщать результаты естественно-научных, социо-культурных и исторических исследований, и для древней и современной религиозной философии. Различия, в основном, касались величин спектров качественных уровней проявления, описываемой реальности и способностей к обобщению существующих пространственно-временных форм и рядов их причинных взаимосвязей. Разной была и степень приближения к постижению Принципа, определяющего это фундаментальное взаимоотношение.